Книги Корнея Чуковского: «Серебряный герб»
Июль 04, 2019 в Книги, Культура, просмотров: 1314

Корней Иванович Чуковский (Николай Корнейчуков) — один из зачинателей детской литературы «на все времена», гениальный сказочник, автор повестей, литературно-критических статей, литературоведческих монографий, крупных работ по вопросам детского чтения и детской психологии.
Велик вклад Корнея Чуковского в поэзию для детей (особенно дошкольников). Не одно поколение детей зачитывалось звонкими стихами сказок Чуковского — «Крокодил» (1916 г.), «Мойдодыр» (1923 г.), «Тараканище» (1923 г.), «Доктор Айболит» (1928 г.), «Бармалей» (1926 г.), «Федорино горе» (1926 г.), «Путаница» (1924 г.), «Чудо-дерево» (1924 г.), «Муха-Цокотуха» (1924 г.), «Бибигон» (1946 г.). Сказки Корнея Ивановича Чуковского навсегда стали любимыми произведениями малышей.
Известный критик советской литературы К. Зелинский писал: «Как детский поэт, Корней Чуковский сумел подслушать и подглядеть и у детей, и в самом народе и своё словотворчество, даже и игру в слово, и любовь к сказочному, и, наконец, неистощимую свою насмешливость и веселье. Есть взрослые рационалистические люди, которые, полунехотя смирясь с его Бармалеями, крокодилами, танцующими слонами и разбегающимися тарелками, всё же никак не могут примириться с его „перевёртышами“, нелепицами и т.д. Не будем спорить с этими дядями. Пойдём к детям. Спросим их. Их любовь к Чуковскому неудержимо-стихийна. Почему?
Потому что он им дарит смех, легко сдувает их детские слёзы, вводит в тот сказочный мир, который, как мечты из русских сказок, является вратами в то, что мы называем жизнью.
Корней Чуковский — весёлый талант. И притом это очень русский талант, бьющий ключами народного умения веселиться» (из «Литературной газеты» от 20 марта 1957 г.).
Популярны среди детей школьного возраста повести К.И. Чуковского «Солнечная» (1933 г.), «Гимназия» (1938 г.), «Серебряный герб» (1961 г.). Эти произведения о детстве, о годах учёбы, о школе продолжают лучшие традиции классической русской литературы — традиции Льва Николаевича Толстого и Николая Герасимовича Помяловского.
Неоднократно переиздавалась книга Чуковского «От двух до пяти» (первое её название «Маленькие дети», (1928 г.), содержавшая в себе тонкие наблюдения над детской психологией и речью. В ней писатель показал, как формируются у детей первые представления о жизни, развивается речь.
Корней Иванович Чуковский неоднократно выступал и как талантливый переводчик. Он обработал для детей знаменитого «Барона Мюнхгаузена» Распэ, перевёл книги Даниэля Дефо, Киплинга, Оскара Уайльда, Марка Твена.
За свою литературную и общественную деятельность Корней Иванович при жизни был удостоен Ленинской премии (1962 г.), ордена Ленина, четырёх орденов Трудового Красного Знамени. В Великобритании писатель удостоен степени Доктора литературы Honoris causa Оксфордского университета. Именем Корнея Чуковского названы улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. В 2014 году появилась улица им. К. Чуковского в Санкт-Петербурге.
 «Серебряный герб» (повесть)
«Серебряный герб» (повесть)
Фрагмент из главы «Телефон»
Зуев высыпал из ранца дюжину мелких иконок — медных, жестяных, деревянных, бумажных, — разложил их перед собою на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну: как бы она не обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости.
Зуев молился недаром: через три или четыре минуты в нашем классе начнётся диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали одиннадцать дней.
Одиннадцать дней назад к нам, стуча высокими каблучками, вошёл наш директор Бургмейстер (Шестиглазый, как мы звали его) и, словно читая стихи, сообщил нам своим певучим, торжественным голосом, что господин попечитель учебного округа его сиятельство граф Николай Фердинандович фон Люстих на днях осчастливит наш класс посещением и, быть может, пожелает присутствовать на русском языке во время диктовки.
Теперь этот день наступил.
Мне особенно жалко Тимошку Макарова, моего лучшего друга, сидящего сзади, наискосок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса. Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг.
— Тимоша… погоди… я придумал!
В одну минуту я вытаскиваю у себя из-за пазухи верёвочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше:
— Привяжи к ноге… да покрепче!
И, покуда он возился с узлами хвоста, говорю:
— Дёрну раз — запятая. Два — восклицательный. Три — вопросительный. Четыре — двоеточие. Понял?
Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне какое-то слово. Но он заика, и изо рта у него вылетают только два-три звука и брызги слюны.
Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, кучерявый и быстрый. Он тотчас ныряет под парту: расширить телефонную сеть.
Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался всего один человек! Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефон и к нему.
Блохин достаёт из кармана бечёвку и протягивает её от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет её к своей правой ноге.
Рядом с Бугаём — Козельский, последний ученик в нашем классе. Зюзя Козельский, плакса, попрошайка и трус.
Нужно провести телефон и к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой.
За Зюзей Козельским, на «камчатке», у самой стены, сидят знаменитые на всю гимназию губошлёпы и лодыри, пучеглазые братья Бабенчиковы. У них кулаки как гири, нужно протянуть телефонные нити и к ним.
— Не забудьте же, — повторяет Блохин, — раз — запятая, два — восклицательный, три — вопросительный, четыре — двоеточие. Поняли?
А Зуев хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза всё время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени перед партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку.
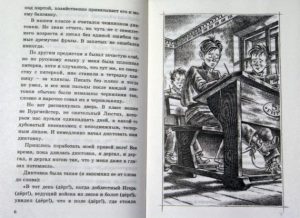 В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда.
В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда.
По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятёрка, хотя и случалось, что тут же, по соседству с пятёркой, мне ставили в тетрадку единицу — за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел, и все мои пальцы после каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу.
Но вот распахнулась дверь. В класс вошёл не Бургмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали одиннадцать дней, а какой-то дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом. И немедленно начал диктовать нам диктовку.
Пришлось поработать моей правой ноге! Всё время, пока длилась диктовка, я дёргал, и дёргал, и дёргал ногою так, что у меня даже в глазах потемнело.
Диктовка была такая (я запомнил её от слова до слова):
В тот день (дёрг!), когда доблестный Игорь (дёрг!), ведущий войска из лесов и болот (дёрг!), увидел (дёрг!), что в поле (дёрг!), где стояли враги (дёрг!), поднялось зловещее облако пыли (дёрг!), он сказал (дёрг! дёрг! дёрг! дёрг!): «Как сладко умереть за отчизну!» (дёрг! дёрг!).
Наши парты дрожали, как в судороге. Я без устали передавал свои сигналы Зуеву, Тимоше и Муне. Тимоша передавал их Бугаю, Муня — Козельскому и братьям Бабенчиковым.
По окончании диктовки дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом взял наши тетрадки и унёс неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, важный чиновник из канцелярии попечителя Люстиха.
И благодарила же меня вся спасённая мною шестёрка! Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей, братья Бабенчиковы — полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва.
Через неделю в класс деревянной походкой снова вошёл незнакомец в сопровождении нашего наставника Флерова и заявил, что, по приказу господина попечителя учебного округа его сиятельства графа вон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь…
Незнакомец порылся в тетрадях.
— Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф… Нельзя ли пригласить их к доске?
Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал.
Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся совсем как живой человек. И, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое:
В тот день когда: доблестный Игорь ведущий войска из лесов и болот увидел что в поле где? стояли враги поднялось!? зловещее облако пыли?
— Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому Иосифу нуль, равно как и Григорию Зуеву.
Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постучал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки:
— Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы… Бабенчиков Александр написал свою диктовку так:
В тот день, когда доблестный Игорь вед,ущий вой!ска из ле?сов и бо,лот, уви,дел что в поле где сто,яли вра!ги поднялось зловещее об,лако пы?ли он сказал как слад,ко умереть: за от,чизну.
Беда произошла оттого, что почерк у меня был очень медленный, детский, а у товарищей — быстрый. Да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвёртое слово, мои товарищи писали уже седьмое, девятое. Слепо понадеявшись на мой телефон, товарищи, сидевшие далеко позади, уже не шевелили мозгами и по сигналу готовы были ставить запятые внутри каждого слова, даже разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка.
После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть — так болели у меня рёбра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я доказывал им, что ни одно великое изобретение не бывает на первых порах совершенным: они были глухи к моим слезам и протестам.
Вернулся я в гимназию лишь на четвёртые сутки.
Молва о телефоне гудела и в коридоре и в классах…
1938 г., 1963 г.








.jpg)













































